
Философия войны должна помочь ответить на вопрос о сущности, смысле и природе войны. Сама по себе война может показаться очень простой и понятной, но сложности возникают сразу же, как только мы пытаемся прояснить для себя, казалось бы, самые очевидные вещи.
Так, нам трудно прийти к соглашению, что же именно мы называем войной, каково ее значение для истории человечества, можно ли ее осмыслить в категориях морали. Есть еще одна сложность, связанная с тем, что по большому счету философов войны не существует. Традиционно этим титулом награждают Клаузевица, который действительно попытался построить всеобъемлющую философскую систему войны. Во всех остальных случаях мы можем почерпнуть знания о войне из сочинений политических философов, специалистов по этике войны, юристов, политических теоретиков, писателей, каждый из которых концентрируется на определенных аспектах этой темы, но не стремится дать нам цельного учения о войне.Предлагать список из пяти книг, которые позволят постичь сущность войны, — дело неблагодарное. Надо иметь в виду, что, называя только пять работ, мы умалчиваем о десятках других, столь же оригинальных, сильных, важных и попросту интересных. За бортом остались Гроций, Арон, Сунь-Цзы, Макиавелли, Бодрийяр, Кант, Гегель. Все представленные ниже работы не дают единой концепции войны, но показывают, что война может осмысляться совершенно по-разному, а ее оценки зачастую оказываются абсолютно противоположными.
1
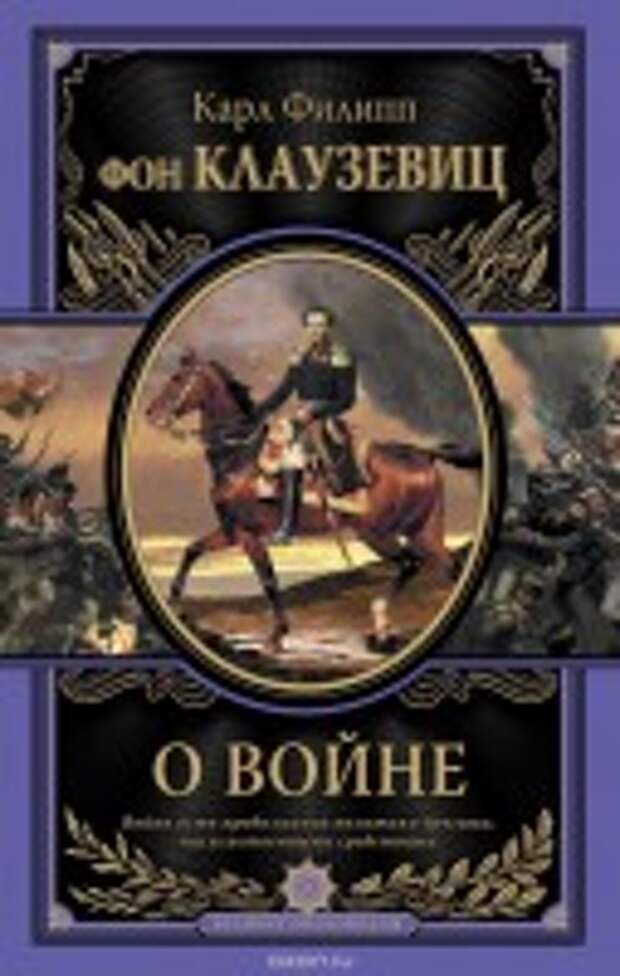
Клаузевиц К. О войне. М.: Эксмо; Спб.: Мидгард, 2007
Карл фон Клаузевиц (1780–1831) — прусский офицер, военный теоретик и историк, участник Наполеоновских войн. Однозначно классическая работа единственного «философа войны», прусского генерала, отметившегося в том числе и службой российской короне. По своему символическому значению труд Клаузевица может быть сопоставлен с «Математическими началами натуральной философии» Ньютона или «Происхождением видов» Дарвина. Незавершенный объемный том, которым зачитывались Ленин и Геббельс (кроме них, немногие решились осилить его до конца), содержит попытку создать общую теорию войны эпохи модерна.
Фраза «война есть продолжение политики, только иными средствами» давно покинула сферу военной или политической мысли, но на самом деле говорит нам о Клаузевице слишком мало. Война действительно понимается Клаузевицем как инструмент политики. Он определяет ее как дуэль или схватку двух борцов, как акт насилия, с помощью которого можно заставить противника выполнить нашу волю. Государства борются между собой, обуреваемые насилием, ненавистью и враждой, но никогда не могут реализовать свой разрушительный потенциал в полной мере вследствие влияния всевозможных трений и «тумана войны». Особенности природы человека, ограниченность знания, страсти, инертность не дают войне реализоваться в своей идеальной, абсолютной форме, поэтому потенциал войны, по мнению Клаузевица, всегда остается ограниченным и не полностью реализованным.
2
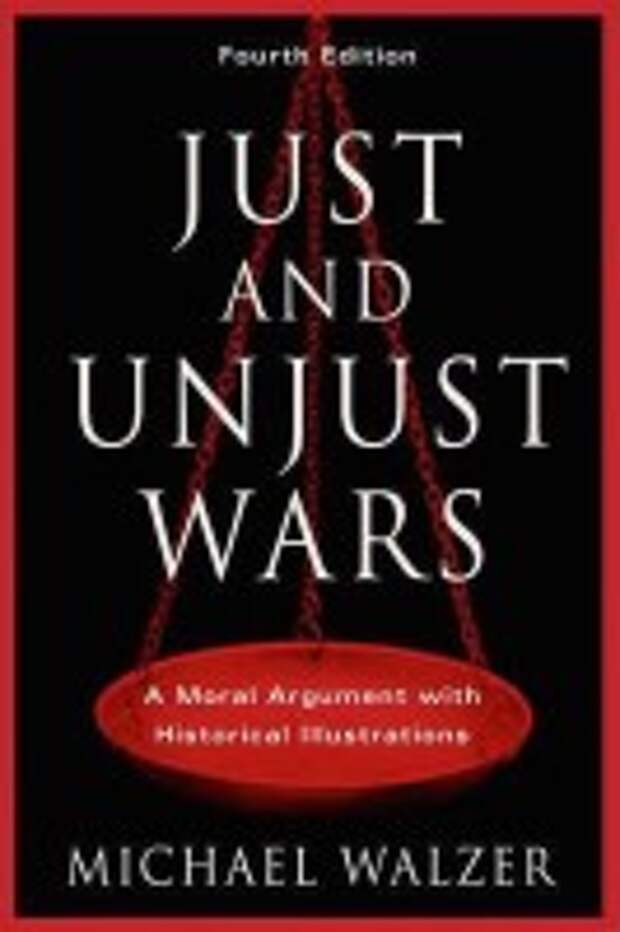
Walzer M. Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations. New York: Basic Books, 2015
Майкл Уолцер (род. 1935 г.) — американский философ, специалист по этике, профессор Института перспективных исследований в Принстоне. Впервые книга Уолцера была опубликована в 1977 году и доказала, что теория справедливой войны, основы которой заложили Августин Аврелий и Фома Аквинский, а наиболее полное описание дал Гуго Гроций, еще жива и может быть кому-то интересна. Уолцер настаивает на том, что обращение к моральному измерению войны необходимо не только теоретикам, но и политикам. Война признается морально приемлемой, если она вызвана справедливой причиной (самооборона или гуманитарная интервенция), объявлена законной властью и до того, как был отдан приказ войскам наступать, государство испробовало все невоенные средства борьбы: переговоры, ультиматумы, санкции.
Методы ведения войны также должны быть ограничены, принципиальной здесь оказывается необходимость четко и однозначно определить законные цели нападения — к ним относятся только комбатанты. Если условия таковы, что мы не можем опознать солдат противника среди гражданского населения (здесь Уолцер вспоминает вьетнамскую войну), то государство должно признать свое поражение и прекратить боевые действия. В противном случае война превратится в бойню, а многочисленные жертвы среди мирного населения окажутся неизбежными. Правда, Уолцер добавляет в свою теорию положение о «чрезвычайных обстоятельствах», когда в борьбе со злом мирового масштаба (к примеру, с гитлеровской Германией) следует забыть обо всех ограничениях и запретах. И это исключение, как мне кажется, нарушает всю стройность системы Уолцера.
3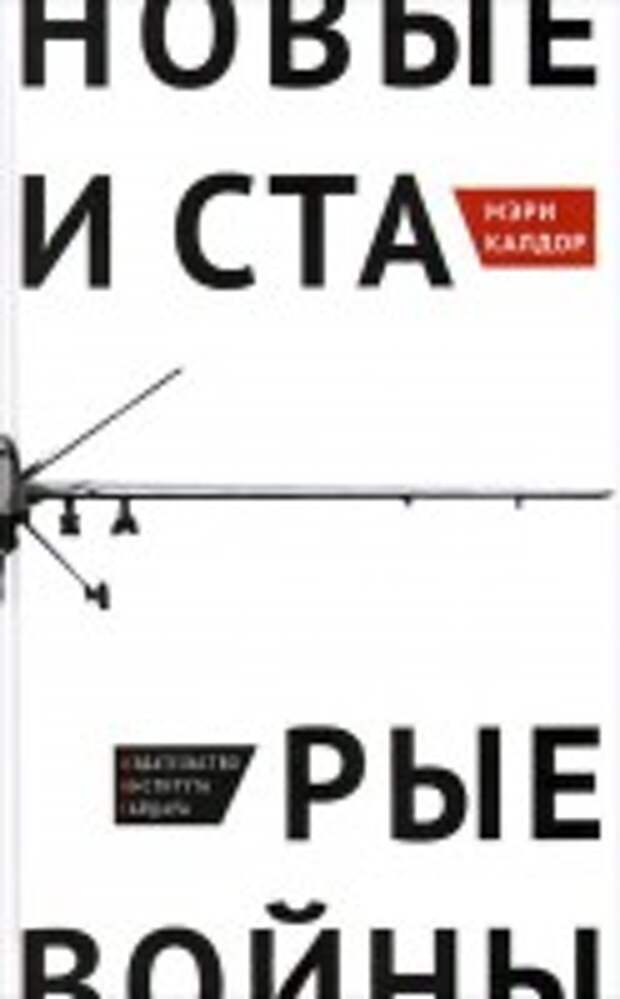
Калдор М. Новые и старые войны. Организованное насилие в глобальную эпоху. М.: Изд-во Института Гайдара, 2015
Мэри Калдор (род. 1946) — британский политический теоретик, профессор Лондонской школы экономики и политических наук. Одна из немногих знаковых современных работ о войне, переведенных на русский язык. Размышляя о трансформациях войны на рубеже тысячелетий, Калдор вводит для описания вооруженных конфликтов «глобально эпохи» собственное понятие — «новые войны», объявляя тем самым Клаузевица с его теорией межгосударственной войны безнадежно устаревшим. Новая война — это уже не столкновение носителей политической воли, а борьба групп, почувствовавших свою силу вследствие отступления или даже крушения государства. Как правило, новые войны — это асимметричные конфликты, спровоцированные стремлением проводить политику идентичности — этнической или религиозной, средством борьбы в них становится не сражение на поле боя, а установление контроля над гражданским населением. Сюда стоит добавить и типичную для этого вида конфликта «хищническую» систему финансирования войны за счет торговли захваченными ресурсами, грабежей, похищения людей, наркоторговли. Вероятно, некоторые положения этой работы покажутся слишком идеалистическими, например надежды на космополитическое решение проблемы войны. Но книгу, бесспорно, нужно читать, чтобы разобраться с тем, во что война превратилась в XXI веке.
4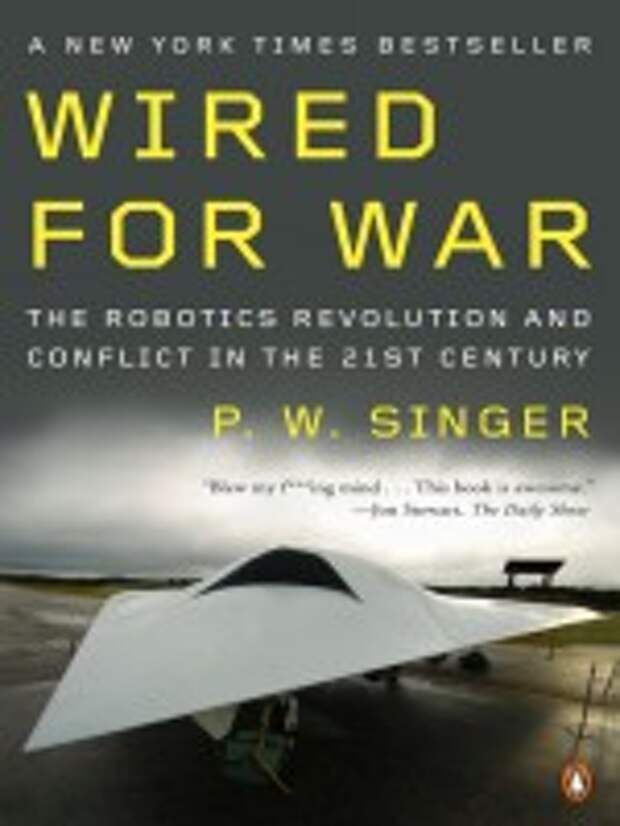
Singer P.W. Wired for War. The Robotics Revolution and 21st Century Conflict. Penguin, 2009
Питер Уоррен Сингер (род. 1974) — американский политический теоретик, сотрудник Брукингского института.
Питер Сингер специализируется на исследованиях современных форм войны и активно консультирует ФБР, армию США и Разведывательное управление Министерства обороны США. Среди его работ можно найти работы и о частных военных кампаниях, и о детях-солдатах, и о кибервойне. Но останавливаемся мы на книге, обращенной в завтрашний день. «Wired for War» — это в первую очередь попытка решить вопрос о нравственной составляющей войны, которую за человека ведут машины. Однако Сингер не замыкается на морали, открывая правовой, политический, экономический горизонты этой проблемы. Казалось бы, замена людей на поле боя машинами выгодна во всех отношениях. Роботы способны произвести настоящую революцию во всей нашей культуре войны:
«когда умирает робот, вам не надо писать письмо его матери»;
«вы тратите 12 часов на войну, поражая цели и сея смерть среди солдат противника, а потом прыгаете в машину и через 20 минут уже сидите за обеденным столом, обсуждая с детьми домашнее задание».
Но тут же Сингер предупреждает, что переоценка собственных сил — один из главных триггеров войны, а вера в невиданную мощь технологий, стоящих на вооружении, обеспечивает благодатную почву для взращивания самоуверенности. Не спровоцируют ли амбиции робототехников, стремящихся усовершенствовать свои боевые машины и подороже продать их политикам, новые, более разрушительные войны?
5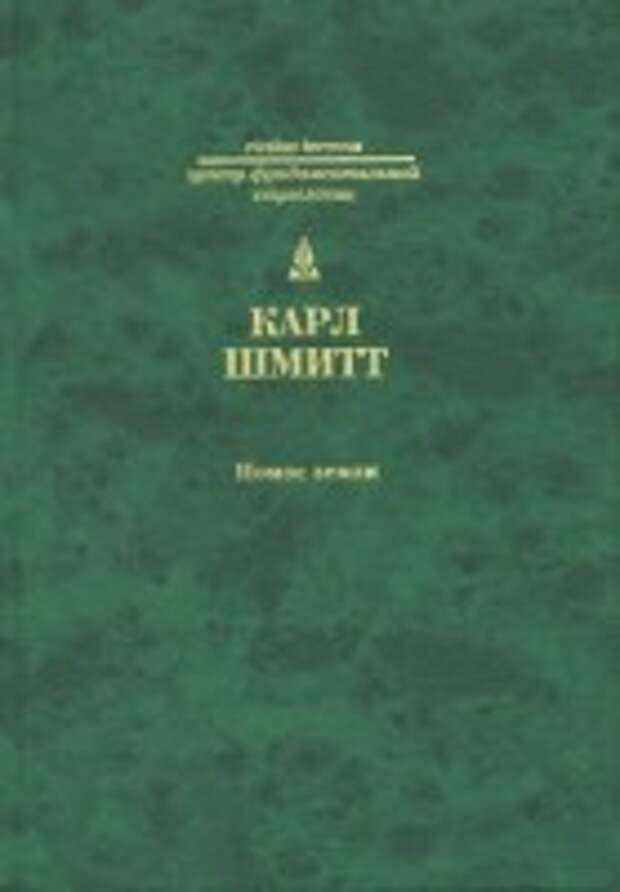
Шмитт К. Номос Земли в праве народов jus publicum europaeum. СПб.: Владимир Даль, 2008
Карл Шмитт (1888–1985) — немецкий юрист и политический мыслитель. Описывая уникальный политический порядок, существовавший в Европе XVII–XX веков, Шмитт не просто ностальгирует по золотому веку европейской государственности, но и указывает на ряд опасных тенденций изменения мировой политики. Первая из них — криминализация войны, к которой начинают применять категории уголовного права, называя ее преступной и агрессивной. Война перестает считаться законным политическим средством, а враг подвергается различным видам дискриминации и диффамации. Враг теперь тоже преступник, а потому его надо не только разбить, но и осудить.
Еще один момент — стремление к описанию военной сферы на языке этики. Но, по мнению Шмитта, оправдание войны стремлением отстоять принципы гуманизма и справедливости, защитить общечеловеческие ценности негуманно per se. Враг в такой войне перестает восприниматься как часть рода человеческого, что снимает вопрос об ограничении применения насилия в его отношении. Дегуманизация врага означает также и невозможность заключения с ним мира. В результате мы получаем не войну как средство решения политических конфликтов, а перманентную глобальную гражданскую войну. Впрочем, за эту тему Шмитт плотно возьмется уже в «Теории партизана».

Свежие комментарии